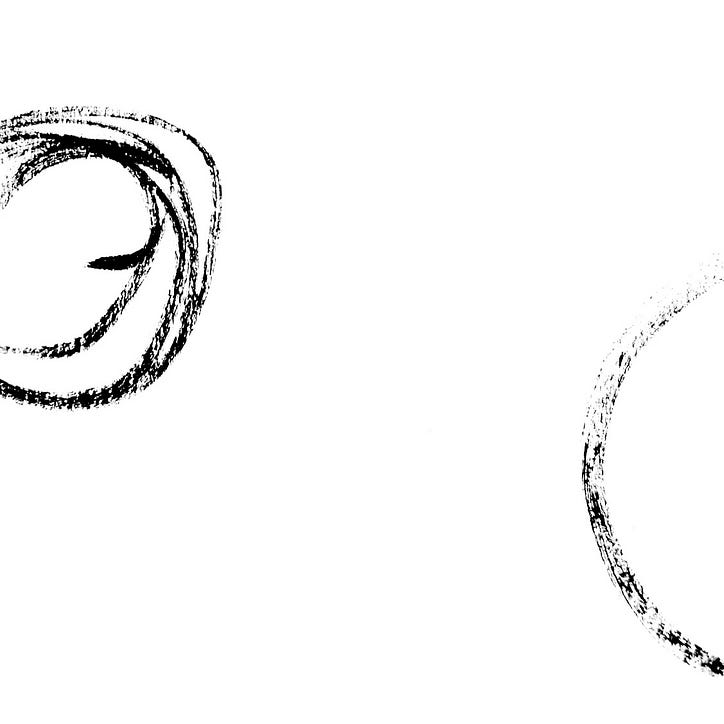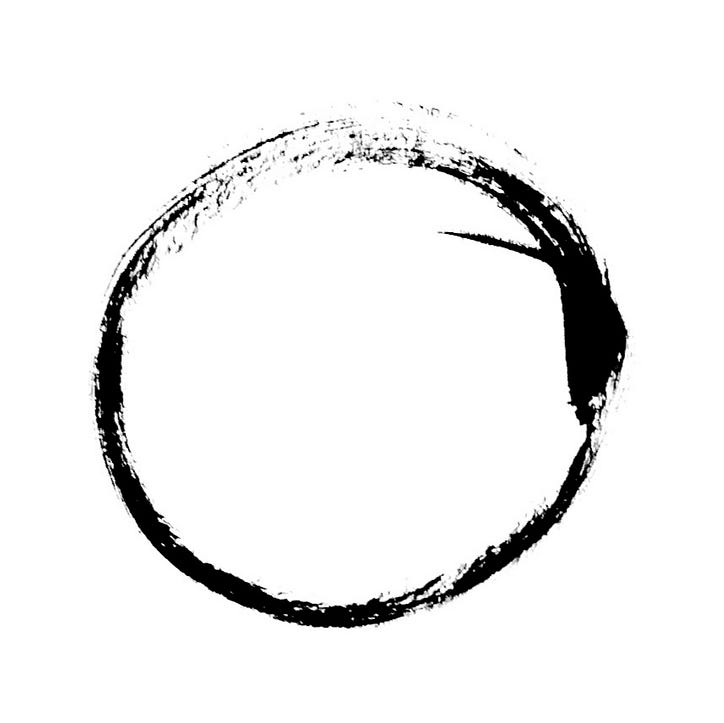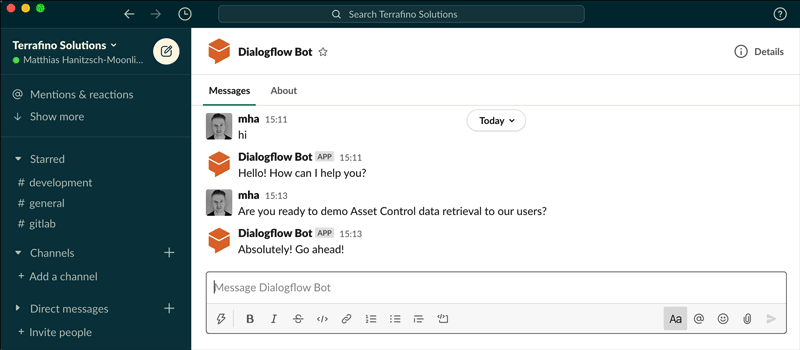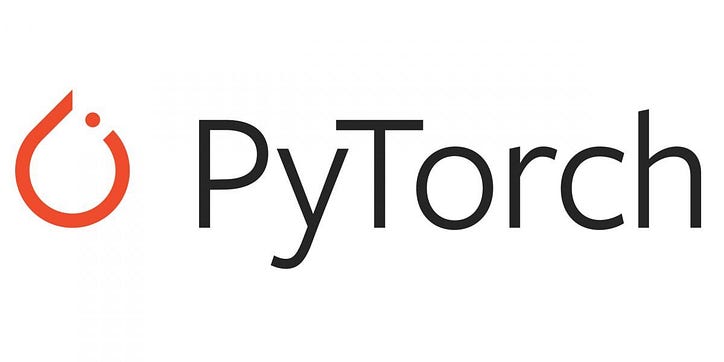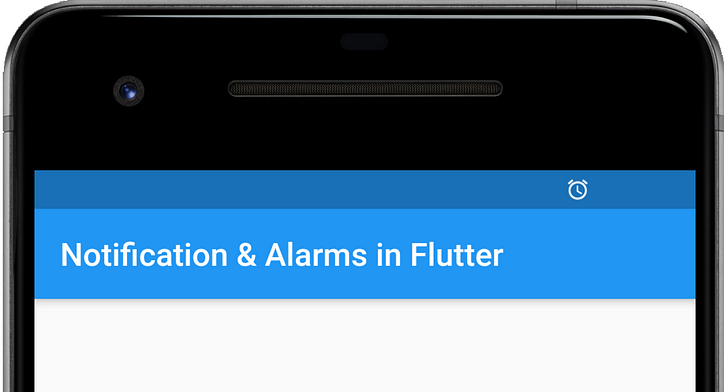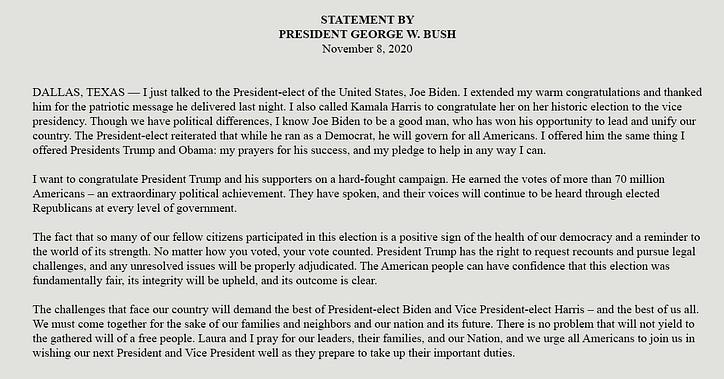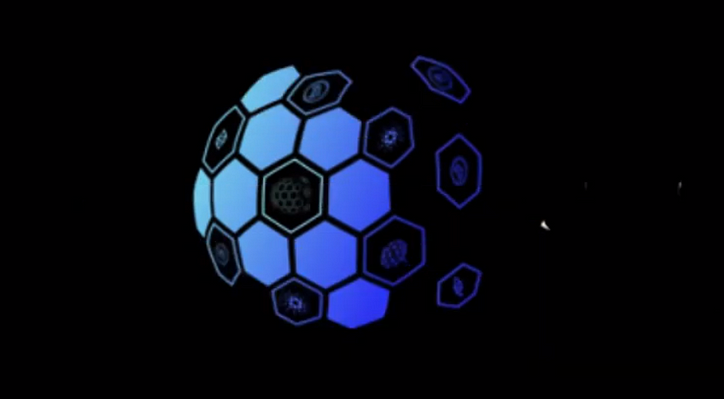Ублек
То, что я себе представлял, оказалось не таким, каким оно было. Пока я был с Джинни в Колорадо, Мелани влюбилась в другого. Я знаю, что убедил себя, что ей нужно влюбиться в кого-то другого, но к тому времени я передумал.
Парень продавал героин. Он заработал на этом много денег, но это не превратило его в придурка. Он мне понравился. Верхняя часть его головы была лысой. Он был похож на Шекспира. Я не винил Мелани. Он был хорош для нее. Уколы героина вылечили ее головные боли — как и все другие боли, которые она испытывала дольше, чем она могла вспомнить.
Героин обезболивающее, болеутоляющее. Вы вводите его в кровь, которая идет прямо к болевым центрам мозга. И эйфория, которую Мелани получила от того, что освободилась от болей и болей, которые она испытывала всю свою жизнь — физических, психологических, эмоциональных, духовных, чего только не скажешь, — дала ее разуму, телу и душе мир, покой и радость. никогда не знал. Она любила героин. У нее перехватило дыхание. Это было божественно. А парню, который дал ей героин, она была несказанно благодарна. Мне было жаль, что я сам не подумал об этом. Но я этого не сделал. У него было.
Мелани была одна, когда я наконец нашел ее дом. Я видел ее через переднее окно. Она сидела под тусклой лампой с желтым абажуром и читала Пруста. Пруст был ее другом. Томас Манн был ее другом. Набоков был ее другом. Энтони Троллоп был ее другом. У нее были самые разные друзья — Анхель Мигель Астуриас, тот « Сто лет одиночества».парень, Исаак Башевис Сингер, В.С. Найпол, В.С. Притчетт, Джеймс Парди, Альберто Моравиа, Кристофер Ишервуд, этот парень Мисима, список можно продолжать и продолжать — у нее был целый мир друзей. У нее всегда была книга для чтения, и она всегда читала ее внимательно и терпеливо, от корки до корки, прежде чем взять другую. Ее волосы были немного рыжими, как будто она была на солнце. Я постучал в дверь и услышал, как она откашлялась. Ей всегда приходилось прочищать горло, прежде чем она что-то сказала. Она постоянно стеснялась.
— Открыто, — услышал я ее голос.
Я вошел внутрь. На Мелани была белая шелковая ночная рубашка, которую я купил ей незадолго до фиаско в Берлингейме. Она не ждала меня. Она ждала кого-то другого. Она не встала. Она просто сидела, указывая пальцем на свое место в книге, и выглядела удивленной, что это был я — удивленной, безумной, разочарованной и, возможно, даже немного торжествующей .
«Почему ты здесь?» Она слегка нахмурилась.
— Я только что вернулся, — сказал я.
«Тебе нельзя быть здесь. Кто-то идет».
"ВОЗ?"
"Друг."
"Мне надо поговорить с тобой."
— Не сейчас.
Парень попал туда. Он не постучал. Он просто вошел, как будто жил там. Она представила нас. Мы пожали друг другу руки. Я забыл его имя. Я очистил его. У него было вялое, какое-то подозрительное рукопожатие. Он был хрупким, нежным, почти женоподобным — с длинными, прохладными, тонкими пальцами, смуглой красивой кожей, большими бычьими карими глазами и гладкой блестящей лысиной с прядями тонких, как у младенца, черных волос вокруг ушей. Он был сдержан, осторожен, умен, играл как надо. Он мне понравился. Я ничего не мог поделать. Он был крут. Мелани отметила свое место в книге закладкой с бахромой, встала со стула и тихо встала рядом с Шекспиром. Он коснулся ее волос. Она выглядела обеспокоенной. Мне не очень понравилось, что на ней была ночная рубашка, которую я ей подарил — не потому, что я ей ее подарил, но потому что это было слишком рискованно — щеголять перед каким-то парнем, которого мы едва знали. Я думаю, я еще не до конца понял картину.
Казалось, они предполагали, что я уеду, но я не уехал. Я остался. Я остался на всю ночь. Что бы ни происходило между ними, я хотел увидеть своими глазами. Я не хотел, чтобы у меня возникали сомнения. Я не хотел, чтобы была малейшая вероятность того, что я неправильно понял, что происходит между ними двумя. Я остался. Я видел. Не было никаких сомнений; недоразумений не было.
Кажется, с этим парнем из Шекспира все было в порядке, что я остался. Он и Мелани посмотрели друг на друга и пожали плечами, как бы говоря, что для них не имеет значения, кто еще хочет околачиваться поблизости, они все равно напьются. Он вышел к своей машине за наркотиками.
Венди спала в единственной спальне. Мелани использовала гостиную в качестве спальни . У дальней стены стояла большая свежезастеленная кровать со множеством подушек.
«Возможно, вам это не понравится», — сказала Мелани, когда мы остались одни.
"Смотреть. Я влюблен в тебя, — сказал я. «Я был огромным мудаком, я знаю, но я полностью влюблен в тебя. Вот что я должен тебе сказать».
— Это не то, что мне нужно услышать.
— Я принес тебе это. Я достала черную бархатную коробочку с обручальным кольцом. "Я хочу жениться на тебе. Я хочу, чтобы мы поженились».
Мелани выглядела так, будто собиралась расплакаться. Она ничего не сказала — просто выглядела так, будто вот-вот расплачется. Впрочем, не похоже было, чтобы она собиралась плакать от счастья; они не собирались быть слезами радости.
Парень вернулся. Я сунул коробку в карман. Мы втроем вышли на кухню. Их наркотические принадлежности были спрятаны за подносом для столового серебра в одном из ящиков. Там были самодельные шприцы, согнутые ложки, спичечные коробки, ватные тампоны и новая длина латексной пудры. Мелани пошла первой. Парень из Шекспира ловко перевязал ей плечо, как будто делал это сотни раз. Вены на сгибе локтя вздулись.
«Боже, у тебя хорошие вены», — сказал Шекспир. Он наклонился и поцеловал внутреннюю сторону ее левой руки. Свет с потолка отражался от его лысой головы. У Мелани было несколько заживших проколов на самой большой вене. Героин был коричневым. Его связью была мексиканская мафия.
Я никогда не видел, чтобы Мелани интересовалась чем-либо болеечем она была в этой длинной, яркой, тонкой самодельной игле для подкожных инъекций, которая все ближе и ближе подходила к вене на ее руке. Как будто парень дразнил ее. Это было похоже на прелюдию. Он провел кончиком иглы по поверхности ее кожи, и ее веки затрепетали. Потом воткнул. Она немного поморщилась, и в шприц просочилась струйка крови. Ожидание заставило ее вспотеть. Ей так сильно хотелось, чтобы эта смесь ее крови и его героина хлынула из стержня шприца ей в руку, и когда это наконец произошло, все ее тело вздохнуло с таким громадным вздохом облегчения, что она чуть не упала со стула. Она сползла вниз. Ее ночная рубашка соскользнула по бокам ее ног, и промежность ее трусиков стала хорошо видна. Они были из черного шелка с ярко-красными гроздьями вишни. Парень вытащил иглу.
Затем пришла моя очередь. Парень не стал милым со мной. Со мной он был эффективен. Он связал мой бицепс. Я сжал кулак. Он набрал смесь героина и кипяченой воды из ложки через новый ватный тампон, проколол кожу одной из моих вен, позволил игле расслабиться и щелкнул соской на конце шприца, пока я не увидела свою собственную. кровь внутри шприца становится темно-бордовой и бархатисто-коричневой. Потом он влил мне в вену все сочинения — и довольно скоро я заметил, что онемел. Это было похоже на сон. Я мог ущипнуть себя, и это было не больно, и я не проснулся.
Внезапно мне стало плохо в животе. Я слышал, что первые пару раз от героина у людей начинало тошнить, но были и другие вещи. Как только эта штука прошла через меня, меня охватили чувство вины, раскаяния, сожаления и такой всепоглощающей любви к Мелани, что я думал, что меня сейчас вырвет. Я собирался бросить.
Я не хотел, чтобы она употребляла героин. Наркоманы плохие. Они грабят людей и трахают людей, и им насрать ни на что, кроме как на то, чтобы сидеть без дела. Я хотел, чтобы мы вернулись в Берлингейм, во двор, где уродливые щенки Сьюзи кусали ее за лодыжки. Я хотел, чтобы мы поженились и жили долго и счастливо. Боже мой, у меня в кармане было чертово обручальное кольцо. Какого черта еще она хотела? Конечно, это была моя вина. Я знал это. Я не винил парня Шекспира. Я не винил Мелани. Я винил себя. Это я трахал Джинни на нашем диване. Я был тем, кто заставил Мелани чувствовать себя так плохо, что у нее каждый день болела голова, тем, кто заставил ее так грустить, что она хотела умереть. Я был тем, кто бросил ее в Сакраменто и снова отправился к Джинни — и вот я здесь, усталый, грязный, небритый, воняющий табули и чепухой Нью-Эйдж,что происходит, я ничего не чувствовал. Я не мог чувствовать, и точка — ничего. Я был бесчувственным. Анестезия. Онемевший. Ничего не болит. Ничего хорошего или плохого не чувствовалось ни в том, ни в другом.
Едва я добрался до ванной, как меня начало тошнить от всего, что я ел за все время, пока был в Колорадо, — весь этот хумус, тофу и брокколи. Меня вырвало вещами, которые я не помнил, ел. Меня вырвало то, что я никогда не ел — живых ящериц, мертвых пальмовых листьев, мокрых попугаев и всякой всячины, которая выглядела так, как будто взята из книги доктора Сьюза.
Ублек!
Варфоломей и Ублек .
Ха!
Меня тошнило огромными порциями все более зеленеющего ублека на новенькую ванную Мелани, что заставило меня задуматься обо всех других книгах доктора Сьюза, которые я когда-либо читал. Я ничего не мог поделать. С тех пор, как моя мать прочитала мне вслух «И думать, что я видел это на Малберри-стрит», когда мне было пять лет, мое воображение всегда просто разыгрывалось во мне. Я как ребенок в книге. Марко. Я вижу усталую старую клячу, тянущую по тихой улочке Бруклина расшатанную телегу с одной лошадью, и она мгновенно превращается в слонов и жирафов, тянущих за собой большой духовой оркестр. Я хотел, чтобы это прекратилось, но этого не произошло. Мое воображение работало и работало, загруженное героином или не загруженное героином. Откуда это? Я не знал. Хотя должно быть забавно. Я заглянул в унитаз и подумал: вау, откуда, черт возьми,откуда ? Возможно, это был мой аппендикс. Миндалины? Аденоиды? Как выглядели аденоиды? Какие, к черту, были аденоиды? Что они сделали? Мне не терпелось рассказать Мелани и парню из Шекспира о том, как весело я выблевывал свои кишки в ее новой ванной. У меня была отработана целая комедийная программа. Это было весело. Это заставит их смеяться до боли в животе. Когда я вернулся в гостиную, парень из Шекспира и Мелани вместе лежали в ее постели и не выглядели так, будто были в настроении для комедии. Это была бы тяжелая публика, каким бы забавным я ни был.
Летом в Сакраменто жарко. Даже ночью. Вам не нужны одеяла. Тебе не нужна одежда. Даже простыни слишком много. Они вдвоем лежали на ее большой кровати без одежды. Это было похоже на Nashville Skyline , как на Lay Lady Lay . Окно было открыто. На подоконнике горело несколько свечей. Не было никакого ветерка. Пламя не мерцало. Они вспыхнули, когда воск перелился через край и оставил открытым новый кусок фитиля, но пламя не дрогнуло.
Парень опирался на груду подушек, прислоненных к стене. Его рука была под головой Мелани. Ее лицо уткнулось носом в его шею. Ее рука безвольно лежала на его груди. Его одежда аккуратно висела на подлокотнике дивана. Белая ночная рубашка Мелани и черные трусики с букетиками вишен валялись на полу.
Я снял одежду и лег с ними в постель. Я не знаю, что, черт возьми, я думал. Может быть, я думал, эй, Мелани пробовала все по -моему , самое меньшее, что я мог сделать, это попробовать по -своему . Ее путь состоял в том, что она хотела быть с этим парнем. Хорошо. Все было в порядке. Я бы тоже пошел дальше и был бы с сукиным сыном. Я не мог представить, что она не хочет быть со мной, и точка. Я не мог представить, что она толькохотела быть с этим парнем. Я был введен в заблуждение. Ее путь состоял в том, что она не хотела, чтобы я был там. Я отказывался в это верить. Она была абсолютно влюблена в меня и всегда была и всегда будет. Она не могла с собой поделать. Какого черта еще она убивала себя все это время? Потому что она не могла не любить меня вечно, несмотря ни на что, вот почему. Я не мог представить себе, что это было иначе. Вот что такое заблуждение — если вы знаете, что вы есть, значит, вас нет. Я был введен в заблуждение. Я остался. Я остался на всю ночь.
Свечи пахли ванилью. Они вспыхивали, угасали и снова вспыхивали. Парень был пассивен. Он не двигался. Он не улыбался; мускулы на его лице улыбались сами по себе. Его глаза оставались полуоткрытыми и полузакрытыми, как будто не имело значения, спит он или бодрствует. Все, что он делал, было непроизвольно. Даже его член становился все больше и больше сам по себе, пока рука Мелани медленно спускалась вниз по тощим непроизвольным мышцам его живота.
Довольно скоро ее пальцы неуверенно зарылись в пряди его лобковых волос. Она приподнялась на локте и скользнула всем своим прелестным обнаженным телом вниз по его обнаженной груди. Она ненадолго открыла глаза и посмотрела на меня, как будто повторяя, что мне действительно может не нравиться то, что еще впереди, что если я к тому времени решил, что хочу уйти, мне, вероятно, следует просто встать, одеться и уйти. .
У Мелани была определенная ловкость, какой-то способ заставить парня почувствовать, что его член так же важен для нее , как и для него. Парень из Шекспира облегчал ей задачу, оставаясь таким хладнокровным, таким отчужденным — бездельничая там с таким апломбом. Ее длинные красивые волосы касались его сосков. Интеллектуальная концепция пришла мне в голову, что я должен был как бы возбудиться против самого себя, но я этого не сделал. Мой собственный член сморщился до размера желудя, закопанного где-то рядом с левой почкой.
Я прикрылся уголком одной из простыней и решил, что это, должно быть, героин. Но этот Шекспир употреблял по крайней мере столько же героина, сколько и я, и уж точно у него не было проблем с членом . Должно быть, это была Мелани. Она оказывала на него такое же влияние, как и на меня. Теперь он был дерзким, бенефициаром ее безудержной привязанности. Вот беда с парнями. Цыпочки дарят им всю эту безудержную привязанность, и они становятся слишком дерзкими, слишком самодовольными, а затем используют эту дерзость, чтобы избить цыпочку, которая дала им это в первую очередь. Меня вытеснили, заменили, вытеснили; она была с ним , и она была с ним так глубоко, как когда-либо была со мной. Это было невообразимо. Это было невозможно. Это было правдой.
Предварительные приготовления были закончены. Мелани привыкла к этому достаточно долго. Она сосала его член прямо перед моим лицом. Я мог видеть, как вакуум оставляет ямочки на ее прелестных щеках бурундука. Казалось, она наслаждалась собой с ним так же, как когда-либо со мной. Время от времени она давала ему отдохнуть, играла с ним, играла с ним — лизала его член вдоль и поперек, прикусывала его член зубами.
После того, как он был хорош и готов, Мелани оседлала парня, как будто садилась на лошадь. Она вставила его член внутрь себя, как рог седла. К тому времени он немного двигался, но его движения все еще были легкими. Так продолжалось вечность. Они бесконечно трахали друг друга. Она перевернула его на себя и взялась за край одной из подушек. Он перевернул ее и трахнул, как лягушку. Он перевернул ее на бок и трахнул боком. Она положила одну ногу ему на плечо, и он трахнул ее, положив ногу ему на плечо. Ей понравилось. Он тоже. Я мог сказать. Мне это не нравилось, но я был слишком накурен героином, чтобы знать, что мне нравится, а что нет, слишком накурен, чтобы понимать, что я вижу, а что нет.видеть. Она не трахала меня; Я мог видеть это. Она трахалась с другим парнем. Она трахала другого парня так же, как раньше трахала меня. Я так много знал.
После первоначального, ошеломляющего, обездвиживающего блаженства героин, казалось, действовал на них двоих как своего рода афродизиак замедленного действия. Они были похожи на ипомеи, часами кружащиеся вокруг друг друга. Я просто был в аудитории. У меня было место в первом ряду, да, но не более того. Мелани протягивала руку и гладила меня по голове во время перерывов — пока парень отливал или ел бутерброд с арахисовым маслом — но потом он возвращался и трахал ее еще немного. Они посрамили Камасутру . Это было впечатляющее выступление, очередное проявление силы . Если бы я был критиком, я бы дал ему все звезды, которые должен был дать. Я видел достаточно, но мне больше некуда было идти, да я и не мог никуда уйти из-за того, что был слишком загружен героином, чтобы двигаться.
Когда начало всходить солнце, они все еще были на нем. Героин немного выветрился. Я продолжал впадать в своего рода транс. Я все еще не спал с тех пор, как уехал из Колорадо. Думаю, это можно назвать сном, но я продолжал просыпаться. Однажды я проснулась, лежа на диване. Я не знал, как я туда попал. В другой раз, когда я проснулся, парня из Шекспира уже не было, а я снова оделся. Я тоже понятия не имел, как все это произошло.
Мелани и я были одни. Она все еще была в постели. На ней была ночная рубашка, и она накручивала кончики волос на пальцы, ища секущиеся кончики. Раньше меня сводило с ума то, как она наматывала волосы на пальцы в поисках секущихся кончиков, но больше это не сводило меня с ума. Мне нравилось смотреть, как она накручивает кончики волос на пальцы. Я мог бы вечно смотреть, как она накручивает кончики волос на пальцы, и был бы счастлив до конца своей жизни.
Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь пыль в воздухе, создавали ощущение, будто мы находимся под микроскопом. Все было слишком ясно, слишком преувеличено. Свечи превратились в лужи. Кровать была усеяна апострофами лобковых волос. Было большое пятно спермы в форме вопросительного знака. Мелани выглядела ошеломленной.
Затем Венди вошла в гостиную. Она протирала глаза. Она стояла передо мной. Я потряс ее за плечи и сказал: «Привет, малыш».
Она зевнула и сказала: «Не могли бы вы отвести нас сегодня в зоопарк?»
"Любой другой день. Я действительно не могу сегодня».
«Маме тоже хотелось бы. А, мама?

Мелани ничего не сказала.
— Мне нужно идти, — сказал я и посмотрел на Мелани.
Если бы она сказала, что мне не нужно уходить, я бы не ушел, но она не сказала, что мне не нужно уходить. Она ничего не сказала. Я должен был уйти. Я ушел.

![В любом случае, что такое связанный список? [Часть 1]](https://post.nghiatu.com/assets/images/m/max/724/1*Xokk6XOjWyIGCBujkJsCzQ.jpeg)