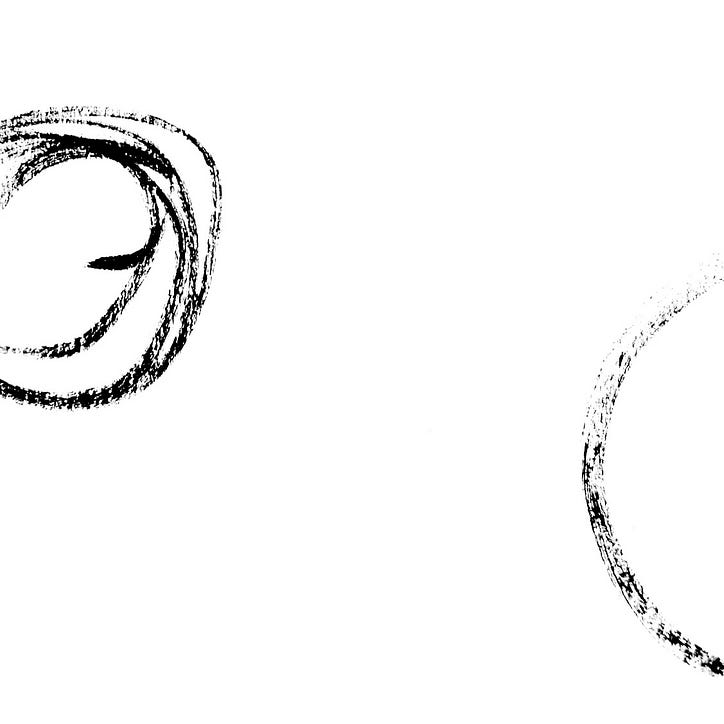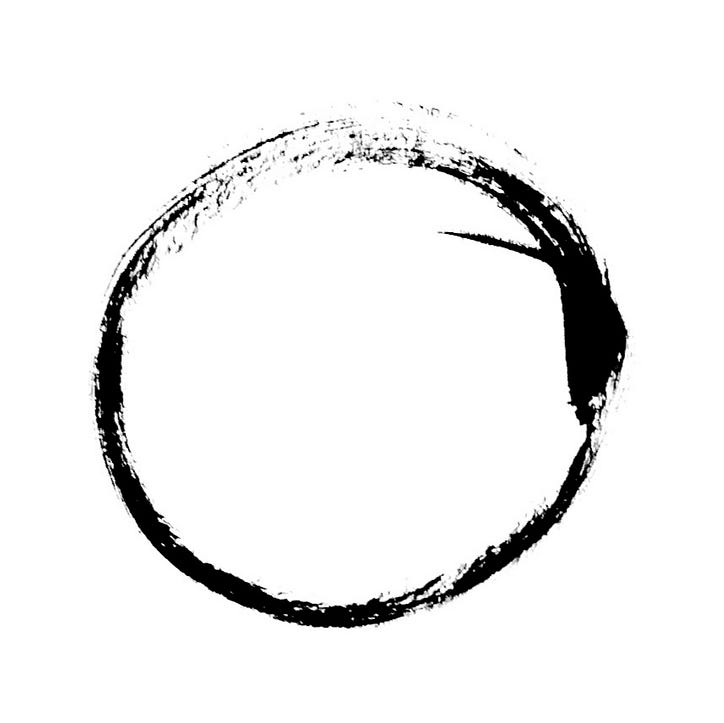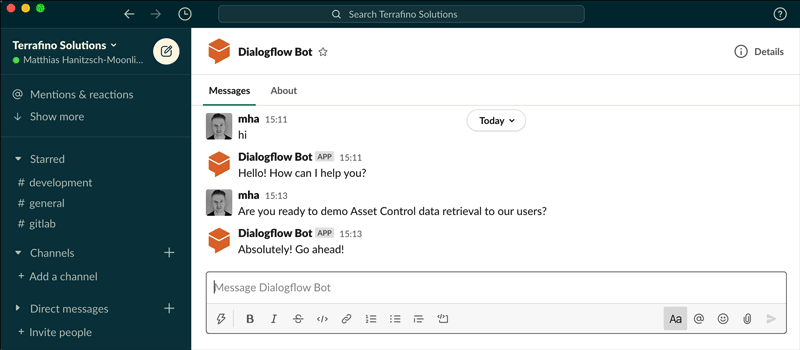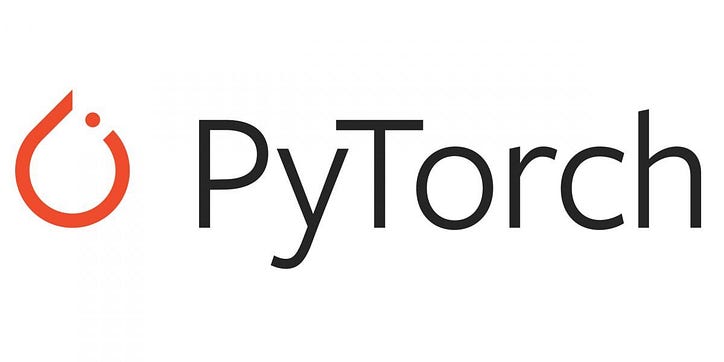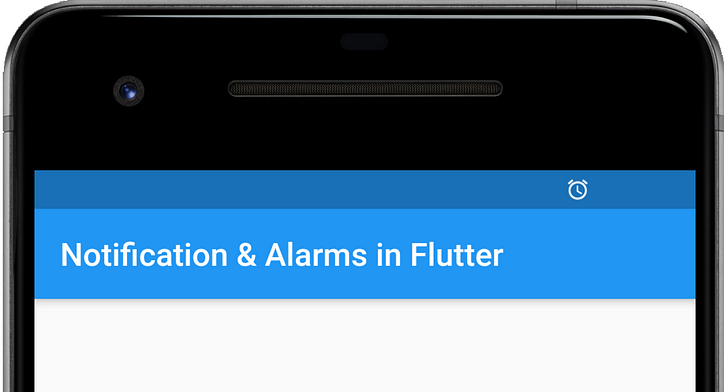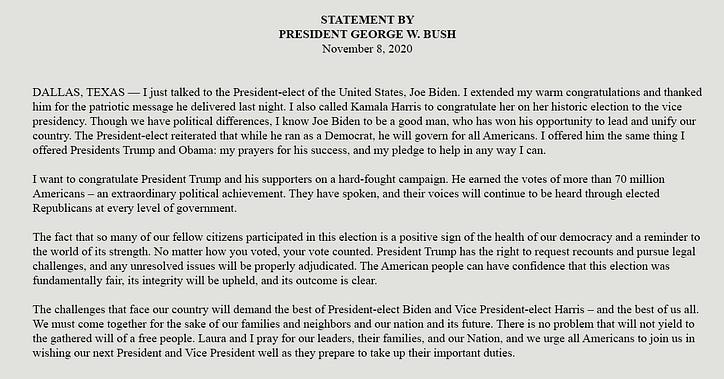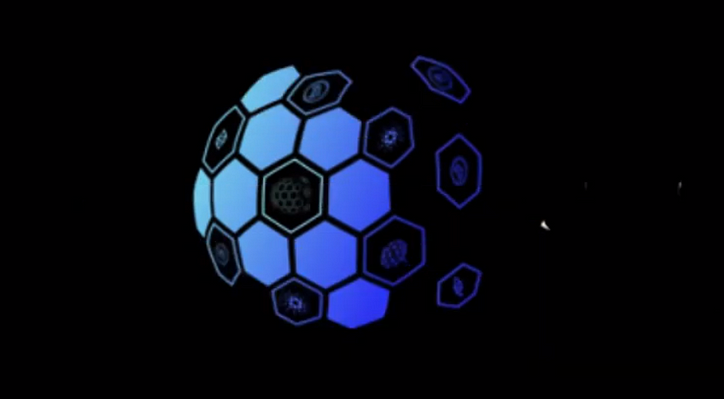Фарисей на миссии
Примерно в возрасте восьми или девяти лет я начал бороться на стыке моей расы и религии. Моя бабушка по материнской линии покинула пятидесятническую церковь вскоре после того, как стала овдовевшей матерью, воспитывающей четырех дочерей, потому что она получила заботу и сочувствие от некоторых людей в методистской церкви, расположенной ближе к дому. В городе, где белые бежали, церковь менее чем за десять лет превратилась из конгрегации большинства белых с несколькими черными семьями в церковь большинства черных.
Хотя большинство ее членов стали — и остаются — членами африканской диаспоры, церковь, в которой я вырос, не разделяет историю Черной церкви. Это часть белой деноминации, которая боролась с инклюзивностью. Воспоминание об одном из пасторов нашего округа, отказавшемся жениться на межрасовой паре в 90-х годах, до сих пор заставляет меня съеживаться. Всего несколько недель назад одно из учреждений деноминации продемонстрировало другую проблемную позицию.

В детстве типичная неделя включала посещение церкви дважды в воскресенье, молитву и изучение Библии в среду вечером и репетицию хора в пятницу вечером. Если бы было какое-то особое событие, например недельное пробуждение, то мог бы быть только один день, когда моя семья не была бы в церкви. Такой тип социализации был для меня нормальным, поэтому многие светские переживания не имели для меня большого значения, кроме того, что они часто были частью длинного и серьезного списка вещей, которые «маленькие христы» не должны делать.
В то время как некоторые дети были девочками или бойскаутами, я был христианским молодежным крестоносцем. Пока некоторые дети учили потешки, играли в утку-утку-гуся, прыгали через скакалку и занимались другими детскими делами, я тоже этим занимался; но я также запоминал библейские стихи; участие в тренировках с мечом (также известных как Библия); живя в те времена, когда мы пели песни о движении, такие как «Отец Авраам»; и присягая американским и христианским флагам — расположенным на подиуме — и Библии. ВСЕ эти действия были сосредоточены на Боге Библии.
Я не мог начать понимать эти и другие аспекты белого христианского национализма до третьего класса, когда я стал достаточно взрослым, чтобы посетить пятидневный летний лагерь нашей деноминации. Именно там я начал испытывать расовые различия. В те первые лета наша церковь была единственной «городской», то есть в основном черной, церковью. Хотя я догадался об этом из общения в церквях в нашем округе несколько раз в год, у меня не было подготовки к различиям в общении.

Для межцерковного общения мы участвовали в богослужении, за которым следовал общий ужин. Были задействованы дорожные поездки, поэтому оставалось время только на то, чтобы делить пространство. Однако за пять дней было достаточно времени, чтобы увидеть, что ограниченное взаимодействие в те воскресенья было не просто незнакомым, но и другим. Я был свидетелем того, как белые дети из многих церквей собирались вместе, представлялись и заводили дружбу в лагере. В то время как «мальчики» часто занимались спортом, «девочки» оставались относительно сегрегированными.
Однако на протяжении всей недели в центре внимания был Бог Библии. Были увещевания против греха, призывы к спасению и ободрение к евангелизации. Мы должны были быть ловцами людей, любить всех, избегать красок. Мы не должны были говорить о расовых реалиях, таких как различная дисциплина за предсказуемое плохое поведение или реакция некоторых, когда черный мальчик и белая девушка начинали роман продолжительностью в лагере (или тот факт, что это было более никогда, чем редко, что белый мальчик и черная девочка).
Я узнал все о том, как быть хорошим христианином. Противоречия между тем, что я узнал от христиан, и Библией, и Богом подтолкнули меня к постоянному процессу разучения. Десять лет назад я не проделал достаточной работы над собой, чтобы осмыслить многие вещи, которые я усвоил, связанные с евангелизацией и приписыванием возвышенного благочестия тем, кто занимается долгосрочной или даже краткосрочной миссионерской работой. Этот внутренний конфликт привел меня к тому, что днем я проповедовал, а по ночам проповедовал песни в нескольких деревнях Доминиканской Республики.

Во время каждой из трех миссионерских поездок на поля сахарного тростника сопоставление красоты природы и уродства Белого превосходства становилось все более болезненным, чтобы я мог его игнорировать. Каждый год несколько Белых детей так плохо относились к собакам — худым, с четко просматривающимися сквозь кожу контурами грудной клетки, — что они тайком брали у них кусочки обеда или закуски; не думая о том, что они играли и ходили среди людей с меланизированной кожей, как у меня, которые тоже нуждались в еде.
Каждый год другой белый взрослый становился свидетелем или получал сообщения об этих актах бесчеловечности, объяснял белым детям неуместность такого поведения и велел им прекратить. Я смотрел и чувствовал их пренебрежение к человечности чернокожих, которым мы должны были быть там, чтобы служить и показывать любовь к Богу. Все больше и больше сталкиваясь с этими и другими аспектами Белого спасительства, я позволял себе выступать под маской «евангелизма» и «делая для наименьшего из них», я не мог не бороться с этим столкновением моих идентичностей.

Перед моей последней «миссией» я не мог полностью сформулировать свою борьбу. Запрограммированное убеждение двигало меня вперед, пока однажды я не встретил женщину вне дома. У нее была деревня, в которой испортилась вода, и люди были вынуждены покупать питьевую воду у владельцев полей, на которых мужчины издольщиц. Что-то привлекло мое внимание и остановило меня на моем пути. Женщина видела, как я смотрю, и знала мои мысли без слов. Я перевел взгляд с предмета на нее.
Кивнув головой в ответ на мой невысказанный вопрос, она подошла ко мне. Ее руки потянулись к объекту моего внимания, сняли пушистые белые коробочки и вложили их мне в руку. Я посмотрел на свою руку и почувствовал, как она повернулась ко мне всем телом. Телепатически она перевела мой взгляд с моей руки на свою. В безвременном пространстве мы стояли, глядя друг другу в глаза. На общем языке, порожденном наследственной травмой, мы говорили друг с другом, одна ее рука держала мою, а моя другая рука держала мягкую, пушистую белизну.

Когда неделя подошла к концу, я аккуратно упаковал хлопок в свой багаж. Несмотря на то, что я был вынужден принести его домой, я никогда не знал, что с ним делать, и выбросил коробочки почти за год до даты начала пандемии. Я поймал себя на том, что часто думаю о многих деревнях, которые я посетил, и задаюсь вопросом о влиянии COVID. До сих пор я думаю о многих людях, которых я встречал… например, о женщине, похожей на мою прабабушку, о детях, похожих на тех, с кем я играл на школьном дворе и в церкви, и о женщинах, похожих на тех, с кем я болтал часами в салоне, когда мои волосы были колонизированы.
Это были диаспорские родственники, которые сделали реальным для меня зародыш зла, выросший в христианство; ясно дал мне понять, что «миссионерские поездки» являются инструментом колонизации и никогда не предназначались для освобождения. Подобная миссия потребовала бы демонтажа репрессивных систем, охвативших гаитян, которые учили мир миссии за свободу. Борясь с этой истиной, скрытой внутри меня, я участвовал в трех миссиях, торгуя спасением, призванным помочь им пережить пламя. Меня до сих пор поражает мое лицемерие.
Этот пост в блоге является частью серии блогов #31DaysIBPOC , месячного движения, посвященного голосам коренных народов и цветных учителей в качестве писателей и ученых. Пожалуйста, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы прочитать вчерашнее сообщение в блоге доктора Джой Барнс-Джонсон (и не забудьте проверить ссылку в конце каждого сообщения, чтобы наверстать упущенное в остальной части серии блогов).
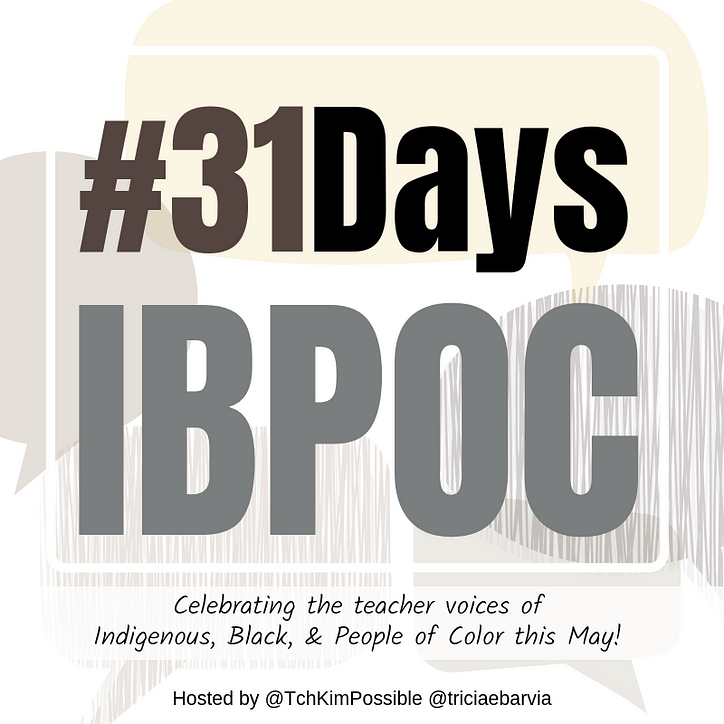

![В любом случае, что такое связанный список? [Часть 1]](https://post.nghiatu.com/assets/images/m/max/724/1*Xokk6XOjWyIGCBujkJsCzQ.jpeg)